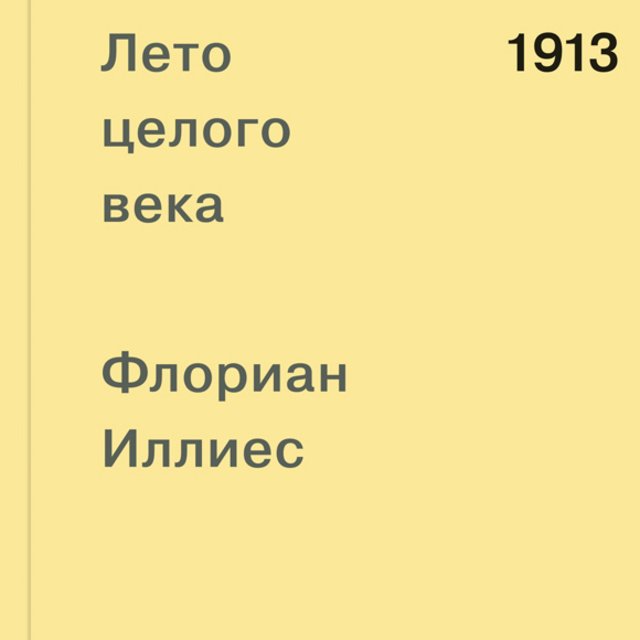«Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Действие главной американской книги 1920-х годов разворачивается ровно 100 лет назад в Нью-Йорке, и сегодня мы, российские читатели, ценим роман Фицджеральда не за то же, за что ценили его американцы-современники. За прошедшее с момента публикации время образ Гэтсби перекочевал в категорию архетипических: в английской поп-психологии даже появился термин gatsbing, которым обозначают действия, совершаемые напоказ, ради привлечения внимания одного конкретного человека — как делал заглавный герой в отношении Дэйзи Бьюкенен. Типичное проявление «гэтсбинга» — это, например, сторис, которые девушка постит специально для «того самого» парня в надежде на огонек или смайлик. В общем, каждый из нас бывает немножко Великим Гэтсби.
При жизни автора роман читался без этого почти мифологического флера: публика узнавала в калейдоскопе персонажей голоса настоящих ньюйоркцев, в перипетиях сюжета и деталях — новости из газет и характерные приметы времени. Фицджеральд был знатным тусовщиком, он был знаком едва ли не с каждой собакой Манхеттена — эта общительность в сочетании с тончайшим слухом на чужую речь позволила ему создать текст, который зафиксировал дух своей эпохи не хуже, чем это сделали (в другие времена, конечно) «Горе от ума» или «Анна Каренина».
«1922. Эпизоды бурного года», Ник Реннисон
А вот из книги Ника Реннисона можно узнать подробности биографии самого Фрэнсиса Скотта, как и сведения о других выдающихся людях: о единственной встрече Марселя Пруста и Джеймса Джойса, о скандале вокруг актера Роско Арбакля, о приходе к власти Иосифа Сталина. Британский журналист и издатель Реннисон составил увлекательную летопись целого года, вычленив из мириад событий 1922-го те, что наиболее очевидным образом повлияли на общество последующего столетия. Чтение получилось легким, поскольку в какую-то особенную глубину автор не погружается, и идеально подходящим для получения представления о целой эпохе.
Читайте также
«Бэббитт», Синклер Льюис
Упоминает Ник Реннисон и писателя, которого сегодня можно отнести к числу подзабытых (в отличие от Фицджеральда, Пруста и Джойса, надежно прописавшихся в университетских программах и джентльменских списках «N лучших книг всех времен и народов»), но которого считали одним из лучших мастеров 1920-х годов. Синклер Льюис, прославившийся романом-признанием в любви к малым городам Америки «Главная улица» (1920), через два года после первого настоящего успеха написал роман-признание в любви (или ненависти, как посмотреть) к простым американским клеркам. Слово «Бэббитт» стало вскоре после выхода книги нарицательным — символом мещанства, конформизма, желания «хорошо устроиться» без всякого критического мышления.
Можно сравнить прозу Льюиса с такими отечественными книгами последних лет, как «Generation „П“» Виктора Пелевина и «Духless» Сергея Минаева: и сто лет назад писатели стремились вывести в своих героях наиболее типичных представителей бурной эпохи. Льюису удалось это блестяще — и, в отличие от Пелевина с Минаевым, признание автор получил даже среди высоколобой аудитории: в 1930 году он удостоился первой для писателя из США Нобелевской премии по литературе. И это при живых Хемингуэе, Дос Пассосе, Драйзере и том же Фицджеральде!
«Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929–1939», Флориан Иллиес
Мы, впрочем, знаем, у кого Ник Реннисон позаимствовал идею «хроники одного года» — у немецкого публициста Флориана Иллиеса, автора мирового бестселлера «1913. Лето целого века». Иллиес в ту же реку дважды входить не стал и вслед за конспектом всех событий «последнего мирного 1913-го» выбрал более широкий взгляд: в своей новой книге он рассказывает о десятилетии с начала Великой депрессии до Второй мировой войны. Эти годы и правда сливаются в единый стремительный поток, несущий человечество в пучину трагедии. Флориан Иллиес, пользуясь временной дистанцией, стремится разглядеть в этом потоке те шансы, что упустили наши предки, те возможные повороты, которые не случились, и те способы предотвратить катастрофу, которые остались неиспользованными.
Завораживающее чтение: из кусочков, по отдельности мало что значащих, читатель собирает мозаику, при взгляде на которую волей-неволей можешь поверить в Судьбу, Фатум и Предопределение. Можно ли было избежать большой войны и Холокоста, если в предшествующие им годы произошло столько всего, в том числе хорошего? Кто знает.
Читайте также
«Большая гонка: драма на миллион», Нил Баскомб
Одна из примет той эпохи, которую описывает Флориан Иллиес, — это какая-то патологическая страсть к скорости, рекордам и достижениям. Люди из самых разных стран бросились в бесконечные соревнования: все хотели быть быстрее, выше, сильнее своих конкурентов — и чтобы пятилетку за три года выполнить, и чтобы небоскреб самый умопомрачительный построить, и чтобы самую модернистскую книжку написать.
Немудрено, что межвоенная эпоха оказалась золотым веком автоспорта: американцы, британцы, французы и особенно — при поддержке Гитлера — немцы стремились во что бы то ни стало доказать, что именно они достойны звания лучших мастеров, инженеров и пилотов. Гонки того времени мало похожи на современную «Формулу-1», которую то и дело обвиняют в искусственном драматизме и рафинированности: выйти на старт Гран-при в условном 1933-м означало реально поставить на кон собственную жизнь.
Ради чего люди делали это все? Какой вообще смысл в погоне за скоростью, зачем нужно наматывать сотню кругов по улочкам Монте-Карло в опасной близости от стен и бухты? Первая половина XX века была временем авантюристов, и книга Нила Баскомба как нельзя лучше демонстрирует эту черту: рассказывая историю одного французского еврея, возжелавшего побить великие Mercedes и Auto Union на гоночной трассе, автор рассказывает историю целого поколения. И пусть иногда Баскомб насыщает текст какими-то умопомрачительно мелкими деталями, трудно не поддаться обаянию его документального романа — он определенно достоин экранизации.
«История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха», Себастьян Хафнер
Воспоминания свидетеля эпохи, также изобилующие подробностями, о которых многие из нас и не подозревали. Себастьян Хафнер, молодой немец Веймарской республики и затем Третьего рейха, в форме личного дневника пересказывает ключевые события с Первой мировой до середины 1930-х, особое внимание уделяя истокам мировоззрения — своего и окружающих. Вероятно, нет более удачного текста, чтобы отыскать-таки ответ на вопрос: «Как великая германская нация с ее неповторимой культурой пришла к нацизму и радикальному антисемитизму?». Весной 2022 года в России вышло переиздание этой книги — и большая часть тиража разлетелась за считаные недели. Это и правда очень сильный текст; жаль только, что Хафнер в какой-то момент бросил свой дневник и не добрался до 1939 года.
Читайте также
«Черный обелиск», Эрих Мария Ремарк
Этот роман Ремарка магическим образом соединяет в себе все самое ценное из предыдущих трех книг в моем списке. Как Флориан Иллиес, Ремарк насыщает книгу значимыми деталями эпохи, благодаря которым 1920–1930 годы становятся понятнее и роднее, — например, едва ли кто-то ярче показал, что такое гиперинфляция и как меняется отношение к деньгам, если те беспрестанно обесцениваются. Как Нил Баскомб, Ремарк подчеркивает характерное для того времени безумие, странную одержимость, фанатизм. Как Себастьян Хафнер, Ремарк обнажает истоки нацизма-гитлеризма и показывает, откуда растут корни будущих трагедий.
Но, опять-таки как у Флориана Иллиеса, подзаголовком к ремарковской книге могла бы стать фраза «Любовь в эпоху ненависти»: какой Ремарк без мощной любовной истории? За это его и любят читатели; за это его бесконечно ругают те самые высоколобые критики, которые оставили без Нобелевки и Ремарка, и его заокеанского двойника Фицджеральда. «Черный обелиск», к слову, интересно рифмуется с романом «Ночь нежна».
«Двенадцать стульев», Евгений Петров, Илья Ильф
А что же Советский Союз, получивший признание в 1922-м, о чем рассказано у Реннисона? Как жили люди здесь? В случае с СССР, межвоенную эпоху стоит все-таки разделить на два очень разных по духу десятилетия, и лучшей книгой о первом из них можно назвать «Двенадцать стульев». Вечный образ Остапа Бендера еще более мифологичен и архетипичен, чем Великий Гэтсби, даром что какого-то психологического термина из его имени не родилось. Бендер — символ всего нового, что появилось в период НЭПа, и одновременно символ традиционной русской смекалочки. Киса Воробьянинов — образ минувшего, еще тем не менее способного повлиять на новый мир, способного в этом новом мире найти себе местечко.
Если вы хотите понять, чем и как жила русская провинция 1920-х годов, едва ли вы найдете более подходящее произведение. Может быть, разве что книги Булгакова (которого то и дело называют настоящим автором «Двенадцати стульев»), но у того скорее речь идет о столице. Глубинка жила и живет немного иначе, о чем нельзя забывать.
Читайте также
«Котлован», Андрей Платонов
Написанная в 1930-м повесть «Котлован» прикидывается антиутопией. Но на самом деле, конечно, кристально ясно: это — пророчество. Андрей Платонов, заговорив языком своего времени и органичнее всех вплетя в свою речь бесчисленные слова из советского новояза, попросту увидел будущее, увидел все десятилетие коллективизации, индустриализации и репрессий. И чтобы не спалиться на собственном ясновидении, замаскировал знание о ближайшем будущем под философскую притчу. Думаю, виной всему именно язык: начав писать теми грузными словами и оборотами, какие проникли в выступления вождей и партработников, а также в передовицы газет, Платонов прозрел и выстроил из словесных конструкций страшный образ грядущего. Можно ли было выстроить что-то иное, какой-нибудь соцреалистический «Город солнца»? Очевидно, нет.
Читать Платонова тяжело, местами мучительно больно, и от прочтения остаются совершенно шизофренические ощущения: что это было, жестокая критика или восхваление индустриализации? И то, и другое: Платонов, кажется, искренне верил в коммунистические идеалы, но не мог не чувствовать того, какой трагедией стремление к ним обернулось уже спустя считаные годы после революции.
«Дом правительства. Сага о русской революции», Юрий Слезкин
Современное исследование межвоенной эпохи в Советской России, а точнее даже в Москве и правящей верхушке, стилизованное под монструозный околохудожественный текст. Так мог бы написать Флориан Иллиес, переборщивший с энергетиками: Юрий Слезкин дотошно и подробно воссоздает в своем трехтомнике множество судеб, связанных с русской революцией и с Домом на набережной, где жил высший свет раннего СССР. Можно поставить эту книгу в один ряд с «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына — правда, влияние на современную мысль и литературу она пока оказала не столь сильное. Подсказываю оптимальный порядок чтения для сильных духом: «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря, «Дом правительства», затем «Архипелаг ГУЛАГ». Каждого из авторов можно обвинить в определенной политической ангажированности, но независимо от ваших взглядов такой читательский марафон позволит лучше понять российскую историю XX века — а об оценках уже можно дискутировать, опираясь на тысячи фактов.