Поэт-футурист Велимир Хлебников сформулирует этот феномен в категориях «изобретателей» и «приобретателей»: первые обеспечивают будущее, вторые (это мы с вами!) кормятся достижениями первых. Но не расстраивайтесь: не все ученые обязательно гении, а сама гениальность — увы — может стать помехой для личной жизни человека, если и вовсе не проклятием. Отношение литературы к ученым в разные века менялось, потому и портрет человека науки оказался многоликим и противоречивым. Попробуем разобраться в его особенностях.
Ученый-чародей
Хотя вера в науку всегда соперничала с технопессимизмом, сила знания оставалась для многих привлекательной. Очаровался ею и Герберт Уэллс — знаменитый фантаст, автор «Машины времени», «Человека-невидимки» и других увлекательных текстов. Гриффин в «Человеке-невидимке» добывает себе сверхспособность и делается полностью прозрачным (здесь, правда, кончается ученый и начинается обыкновенный маньяк, рассматривающий невидимость как инструмент власти, но это уже другая история). В «Машине времени» образ ученого несколько задавлен социальным конфликтом элоев и морлоков, однако сам диалог Путешественника с Мэром (обывателем до мозга костей) уже демонстрирует пленительную силу науки: «…Почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще одно направление под прямым углом к трем остальным? <…> Вы знаете, что на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Предполагается, что точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если овладеть перспективой этого предмета. Понимаете?» Мэр, разумеется, ни черта не понял, хоть и не признался в этом, потому что для него это «магические слова», что-то из ряда вон выходящее.
Между тем передовые умы, попрощавшиеся с классической наукой, уже все понимают, а до эйнштейновской революции остаются считаные годы. Ученый превращается едва ли не в волшебника; наиболее ярко магический образ воплотится в биографии Николы Теслы, которому до сих пор приписывают массу чудес, включая Тунгусский феномен.
Сама машина времени в романе Уэллса тоже является загадкой, но изобретатель охотно объясняет, как просто (на первый взгляд) работает эта штуковина: «Если нажать на этот рычажок, машина начинает скользить в будущее, а второй рычажок вызывает обратное движение. Сейчас я нажму рычаг — и машина двинется. Она исчезнет, умчится в будущее и скроется из наших глаз». Кстати, фантаст придумал идею четвертого измерения не на пустом месте, он вдохновился одним студенческим докладом некоего Гамильтона-Гордона. В итоге роман стал чуть ли не первым крупным произведением мировой литературы, где описывается перемещение во времени — причем в невообразимо далекое будущее, когда земные твари снова вымирают, а Солнце превращается в красного гиганта. И как бы ни продвигалась вперед наука, ученый XX века по-прежнему оставался немного чародеем — и на Западе, и даже в материалистической Стране Советов.
Ученый превращается едва ли не в волшебника; наиболее ярко магический образ воплотится в биографии Николы Теслы, которому до сих пор приписывают массу чудес, включая Тунгусский феномен.
Читайте также
В прекрасной детской книге Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» профессор Енотов придумывает волшебный уменьшающий эликсир, благодаря которому брат с сестрой попадают в мир насекомых и сталкиваются с ними — в буквальном смысле! — лицом к лицу. Энтомологический триллер тридцатых, экранизированный уже в восьмидесятые, будоражит детское воображение и заставляет посмотреть на незаметных существ абсолютно по-новому. Чтобы вернуться в мир людей и обрести прежние масштабы, героям приходится употребить увеличительный порошок, тоже изобретенный дальновидным профессором Енотовым. Кстати, в романе отлично показана страсть подлинного ученого и коллекционера: когда профессор видит перед собой редчайшую бабочку под названием оливковая экофора, мир для него буквально перестает существовать, остается только она — желанный и неповторимый экземпляр. Но собрать и поймать всех бабочек невозможно, и чем больше мы узнаем, тем меньше знаем. И слава богу: если бы тайна не сопровождала науку, вряд ли об этом было бы так интересно читать.
В нашей стране величие науки по-новому осмысляется в период оттепели, когда Гранин пишет «Иду на грозу» и рисует живые образы увлеченных молодых людей, мечтающих повелевать стихиями. Слово «ученый» начинает звучать особенно гордо и престижно: да, это простые труженики, но вместе с тем полубоги, уже почти герои Стругацких. Но от божественного — увы — совсем недалеко до дьявольского, и перед некоторыми соблазнами людям науки не удавалось устоять.
Ученый — подельник дьявола
Исторически образ ученого тесно связан с фаустианским сюжетом и с самим Фаустом — у которого, кстати, был реальный прототип (подробнее о трансформации образа вы можете прочесть в статье Татьяны Зборовской «Как появился Фауст, и кем он стал в наше время»). Как мы помним, у Гете Фауст мечтает изведать тайны природы, испытать в полной мере и радости, и страдания. Конечно, его сложно назвать ученым в современном рационально-прагматическом понимании (тем более что героем управляют вполне обычные плотские желания, которые нельзя сбрасывать со счетов!), но сама идея поиска действительно играет важную роль.
Чтобы получить желаемое, Фауст готов пойти на сделку с Мефистофелем; при этом важно понимать, что его цель — не банальное наслаждение, а все-таки познание, которое немыслимо без приложения собственных усилий. Именно поэтому — по крайней мере, в гетевской трактовке сюжета — Фауст не желает получать удовольствие в готовом виде, как принесенный ему дьявольский дар: «Не радостей я жду, — прошу тебя понять! / Я брошусь в вихрь мучительной отрады, / Влюбленной злобы, сладостной досады; / Мой дух, от жажды знанья исцелен, / Откроется всем горестям отныне: / Что человечеству дано в его судьбине, / Все испытать, изведать должен он!» Заметим, что «Фауст» писался в эпоху энциклопедических знаний и научного универсализма, когда один человек мог заниматься буквально всем — от астрономии и геологии до стихосложения и алхимии.
Сегодняшние Фаусты от науки, выросшие в эру узкой специализации, уже радикально отличаются от мятежного героя XVIII столетия: они могут знать все о кварках и бозонах, но оставаться полными профанами в вопросах анатомии и не питать ни малейшего интереса к культуре Северного Вьетнама. Так что с современной точки зрения Фауст гетевского образца — скорее «антиученый» и к тому же неисправимый мистик. А вот этическая дилемма, затронутая немецким классиком, будет жить в контексте любой эпохи, потому что Мефистофель стал хитрее и растворился в безличных структурах.
Игры с дьяволом начинаются и в том случае, если ученый — скажем, Вернер фон Браун или Оппенгеймер — вовлекается в опасные государственные проекты. Но еще до эпохи атомного оружия этические вопросы были отрефлексированы литературой: об этом и булгаковское «Собачье сердце» (демиург с говорящей фамилией Преображенский, если внимательно перечитать текст, выглядит далеко не безупречно), и «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого. Гарин — пример безумного и талантливого ученого, которому нужно не доброе и вечное, а золото и власть над миром. Изобретатель оптического оружия наподобие лазера (причем до всяких «Звездных войн») готов жертвовать своими двойниками и идти по трупам, лишь бы торжествовало его эго. Кстати, финал «Гиперболоида», где инженер остается с любовницей Зоей Монроз на коралловом острове, удивительно гуманен по отношению к главному герою.
Чтобы получить желаемое, Фауст готов пойти на сделку с Мефистофелем; при этом важно понимать, что его цель — не банальное наслаждение, а все-таки познание, которое немыслимо без приложения собственных усилий.
Читайте также
«Ученым опасно давать власть!» — хором вопили писатели XX века. «Еще опаснее упустить эту власть из рук, — мудро добавляет Курт Воннегут-младший, — если она уже оказалась в руках ученых людей». В начале 1960-х он напишет культовый роман «Колыбель для кошки», где никаких кошек — пусть читатель будет предупрежден — нет в помине, зато есть ученый Феликс Хониккер, отец атомной бомбы и впоследствии изобретатель вещества под названием «лед-9». Трое детей, разделившие между собой чудо-лед после смерти Хониккера, де-факто превращают мир в пороховую бочку — или, выражаясь словами Цветаевой, в «склад, почуявший фитиль». Беда случается неожиданно, когда самолет врезается в замок «Папы» Монзано, диктатора банановой республики Сан-Лоренцо. После крушения резиденции лед-9 замораживает все вокруг, жизнь на планете почти исчезает (хотя несколько человек все-таки спаслись), а в холодном небе резвятся ужасные смерчи.
Мысль, к которой нас подводит Воннегут, довольно проста: наука должна отвечать за последствия прогресса, а иначе придется расплачиваться за халатность или чей-нибудь идиотизм. В СССР остроумную апокалиптическую книгу Воннегута полюбили благодаря переводу Риты Райт-Ковалевой. «Колыбель для кошки» — легкое и пропитанное юмором повествование о самом главном, доказательство тезиса, что от подельника дьявола до подвижника один шаг (иногда оба эти шага может делать один и тот же человек).
Ученый-подвижник
Лучшее, что мы можем сказать об ученых, связано с их принципиальностью, упорством, готовностью поступаться благами ради истины. Познание истины идет рука об руку с мессианством и желанием помочь людям — старая прометеевская (она же фаустианская) парадигма была подхвачена Бертольдом Брехтом. В пьесе «Жизнь Галилея» великий астроном не желает (хотя и вынужден) считаться с прихотями власти, капризами общества, университетским начальством и другими факторами, которые усложняют работу в науке — не говоря о риске быть жертвой преследований. Драматурга волнует и проблема финансирования: без государства или мецената ученый не может нормально работать (и Галилей это понимает), но покровители платят только за те исследования, которые считают перспективными.
Куратор падуанского университета Приули говорит Галилею, что надбавку можно получить за «полезные» вещи, после чего астроном начинает работать над проектом подзорной трубы. Увы, даже просвещенная власть не всегда понимает, что сегодняшние фундаментальные науки — это завтрашние прикладные: об этом часто говорил академик Жорес Алферов, об этом говорит нам и Брехт, показывая жизнь гения на заре XVII века. Стоицизм Галилея и его преданность науке проходят проверку на прочность во время чумы: когда во Флоренции разгорается эпидемия, астроном продолжает работать. Что стало с Галилеем потом, мы хорошо знаем.
Трагедия ученого даже не в том, что он проиграл процесс и вынужден отрекаться от правды. Ему не удалось поставить науку на службу обществу, и это оборачивается глубокой внутренней драмой: «Я полагаю, что единственная цель науки — облегчить трудное человеческое существование. И если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, что накопляют знания ради самих знаний, то наука может стать калекой и ваши новые машины принесут только новые тяготы». «Почему же вы тогда отреклись?» — спрашивает астронома его ученик Андреа. «Я отрекся потому, что боялся пыток», — отвечает старик, которого сложно в чем-то упрекнуть. Интерпретаций пьесы за десятилетия накопилось множество; по мнению самого автора, преступление Галилея в том, что он «повел свою науку на борьбу и предал ее в ходе этой борьбы». Будущее сомнительно, но успех его неизбежен: тот же Андреа в финале восклицает: «У нас все впереди!» — подразумевая изобретение летательных аппаратов и научный прогресс как таковой.
Подвижничество привлекало литераторов прошлого века как своеобразная контркультура, ведь капитализм поставил героя перед выбором: либо чистая наука, либо достойная жизнь. Азарт и тягу к открытиям демонстрирует главный герой романа Синклера Льюиса «Эрроусмит» — молодой ученый-микробиолог, который хочет пойти по стопам великого доктора Готлиба (классического бессребреника и нонконформиста), но вынужден думать о семье, о заработке и заниматься частной практикой в ущерб фундаментальным исследованиям. Психология Мартина Эрроусмита явлена читателю как клетка под линзой микроскопа; терзания молодого и перспективного человека понятны каждому: «Итак, я не буду богат. Леора, бедная девочка! Не получит она новых платьев, и квартиры, и всего такого. Нам не будет теперь так уютно, как раньше, в нашей старой квартирке. Ладно, нечего ныть».
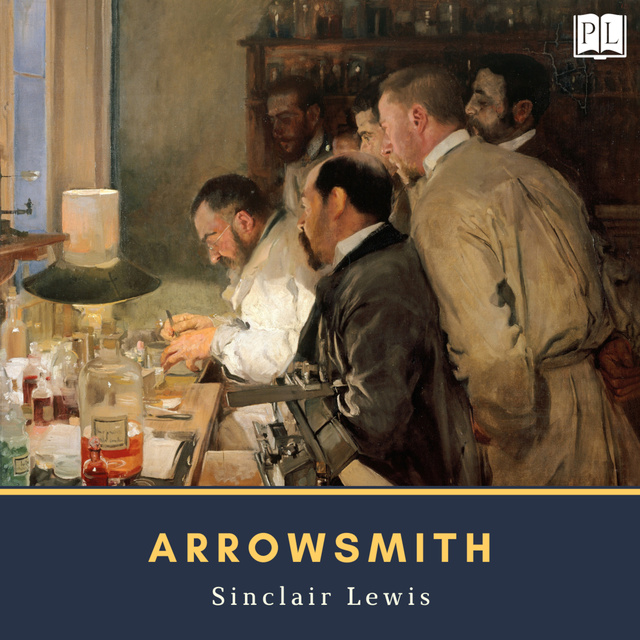
Подвижничество привлекало литераторов прошлого века как своеобразная контркультура, ведь капитализм поставил героя перед выбором: либо чистая наука, либо достойная жизнь.
Читайте также
Льюис — кстати, первый в США нобелевский лауреат по литературе — отлично знал, о чем пишет, тем более что к созданию текста приложил руку крупный микробиолог Поль де Крюи, видевший научную кухню изнутри и снабжавший своего друга-литератора массой ценной информации. Важно, что в романе чуть ли не впервые выводится несколько «ученых» типажей и несколько концепций научной карьеры: здесь и романтик-идеалист Эрроусмит (преодолевший, впрочем, оторванность своего учителя Готлиба от реальной жизни), и предприимчивый карьерист Табз, и неугомонный доктор Пиккербо, любитель ассоциаций и всевозможных пиар-кампаний.
Открытие бактериофага, которое можно считать кульминацией книги, прекрасно показывает, как эйфория от совершенного научного прорыва искупает все страдания ученого; кстати, финал остается открытым, и наверняка Мартина ждет целая полоса непрогнозируемых удач и поражений, потому что наука — это вечное сомнение в себе и вечный поиск.
Если в западной традиции ученый воюет (а иногда успешно сотрудничает) с миром торжествующей коммерции, то для советской литературы было характерно сталкивать ученого с другим ученым (как в двухтомном романе Леонида Леонова «Русский лес», где показан конфликт альтруиста Вихрова с его давним оппонентом Грацианским) либо с бюрократом или с машиной несправедливости (как в «Белых одеждах» Владимира Дудинцева, где рассказывается о драме генетиков в период лысенковщины). Белый цвет превращается у Дудинцева в символ честной и настоящей науки: попавшие в опалу «неправильные» сотрудники института готовы пострадать в борьбе с «правильными» (такими, как агробиолог Рядно и его адепты), академик Посошков и вовсе кончает жизнь самоубийством, как бы опережая приговор и не давая возможности расправиться с ним после доклада о новом сорте картофеля.
Несмотря на трагизм сюжета, Дудинцев выступает как последовательный оптимист и верный идеолог оттепели — поэтому добро у него тоже с кулаками, причем в буквальном смысле: Дежкин мстит Краснову и избивает его на Лубянке, до этого на Краснова покушался отец арестованного студента Жукова. Академик Рядно, когда мрачные времена проходят, оказывается «нерукопожатным» и подвергается остракизму. В целом мученичество селекционеров, которые прошли через волну репрессий (а некоторые, как Стригалев, погибли), делает их образы героическими. Принцип для человека науки важнее всего — и в этом смысле со времен Джордано Бруно мало что изменилось.
Человек «не от мира сего»
Архетип чудаковатого ученого въелся в массовое сознание подобно пятну краски, которое не смыть никаким растворителем. О том, что мысль может поглотить человека без остатка и сделать его безразличным к быту, знали еще в античности: примеры босого Сократа или живущего в бочке Диогена, пожалуй, самые яркие. Впоследствии наука отвоевала право на автономию и полностью отмежевалась от философии, но чудаковатые мыслители никуда не делись.
В XIX веке ученые «не от мира сего» появляются в романах Жюля Верна. В «Детях капитана Гранта» на сцену выходит Жак Элиасен Франсуа Мари Паганель, «секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, почетный член Королевского географического и этнографического института восточной Индии». Обилие титулов и регалий ничуть не помешало азартному географу перепутать корабли и явиться на яхту «Дункан» вместо судна «Шотландия». Так разрушается миф о рациональности: ученый последователен и логичен в своей области, но совершенно беспомощен за ее пределами. Иногда иррациональность может вторгаться и в профессиональную сферу; лорд Гленарван вспомнит, что Паганель «опубликовал прекрасную карту Америки, куда умудрился вклинить Японию. Но это не мешает ему все же быть выдающимся ученым и одним из лучших географов Франции».
Не меньшим оригиналом, чем Паганель, был энтомолог Бенедикт из «Пятнадцатилетнего капитана». Он жил только насекомыми, игнорируя мир вокруг себя. Уже в первой главе читатель узнает, что Бенедикт «…неприхотлив, покладист, нетребователен, нечувствителен к жаре и холоду, мог не есть и не пить целыми днями, если его забывали накормить и напоить. Казалось, кузен Бенедикт принадлежит не столько к животному, сколько к растительному царству». Любопытно, что, говоря об увлечении героя, Жюль Верн перечисляет в романе только 10 отрядов насекомых (сегодня известно больше двадцати), причем стрекозы попадают у него в отряд сетчатокрылых (что абсолютно неверно, однако с тех пор классификация сильно изменилась). Важно, что шестиногие создания для Бенедикта были куда интереснее любых двуногих, а единственным человеком на шхуне «Пилигрим», которого ученый смог приобщить к микромиру, оказался негр по имени Геркулес. Рассеянность персонажа и невнимание к бытовым аспектам жизни могли сопровождаться взрывным характером и другими поведенческими странностями.
Также в литературе часто эксплуатируется образ ученого-эксцентрика, жить рядом с которым — то еще испытание. Если Паганель был просто забавным чудаком, то профессор Челленджер из «Затерянного мира» Артура Конан Дойла предстает довольно угрюмым и желчным типом, в котором странное обаяние сочетается с агрессией и самодурством. Когда жена устроила скандал и стала осыпать Челленджера упреками, тот просто взял и поставил ее на мраморный постамент. К слову, у невыносимого Челленджера, увлеченного поиском доисторических тварей, есть свой антипод — скептик и зануда профессор Саммерли, представитель отряда «нормальных», который готов принять живого птеродактиля за птицу, просто потому что птеродактилю не место в его стройной картине мира.
Сочетание одаренности и девиантного поведения воспринимается литературой как нечто закономерное. Поскольку ужасы XX века усиливают внимание к проблемам духовной жизни, личность ученого — тем более гения — рисуется все более противоречивой.
Читайте также
Как мы видим, сочетание одаренности и девиантного поведения воспринимается литературой как нечто закономерное. Поскольку ужасы XX века усиливают внимание к проблемам духовной жизни, личность ученого — тем более гения — рисуется все более противоречивой. Платой за сверхинтеллект становится атрофия чувств, вплоть до тотального нравственного отупения. В уже упомянутой «Колыбели для кошки» младший сын Хониккера карлик Ньютон вспоминал эпизод, когда его брат толкнул сестру, а та заплакала и стала звать отца. Отец не проявил к конфликту детей никакого интереса и скрылся в окне, потому что «люди были не по его специальности». В ответ на слова коллеги «теперь наука познала грех» (речь шла об испытании бомбы) Хониккер задал вопрос: «А что такое грех?»
Пройдет довольно много времени, прежде чем писатели попытаются вернуть героям-ученым «нормальность» в общечеловеческом смысле этого слова. Роберт Лэнгдон, специалист по истории искусств из книг Дэна Брауна, является редким примером успешного ученого, почти гения, но совсем не маргинала. Он остроумен и харизматичен, прекрасно плавает, более-менее способен ладить с этим миром и получать от жизни удовольствие (и духовное, и плотское). Таких примеров пока немного, потому что историческая инерция сильна — однако новая эпоха, в которой мы живем, наверняка подарит нам очередной типаж современного ученого.
И что теперь?
Британский философ Рональд Барнетт говорил, что университеты должны «найти способы сделать наши границы подвижными, легко преодолевающими установленные пределы». Говоря шире, наука XXI века снова радикально переосмысляет себя и свое место в жизни. При этом ученый — явно не герой нашего времени, и статус его уже не тот, что был в прошлом веке. Когда современный писатель обращается к фигурам прошлого, его (или ее) интересует не столько облик ученого, сколько мышление и парадоксально устроенный мозг. В романе «Женщины Лазаря» Марины Степновой мы видим гениального Лазаря Линдта — канонического физика-еврея, сделавшего феноменальную советскую карьеру. Как именно мыслил Линдт, мы не узнаем, зато можем восхититься скоростью работы чудо-мозга: герой легко и непринужденно покрывает бумагу сложнейшими формулами, решает за одну минуту любые олимпиадные задачи повышенной сложности (а те, над которыми Линдт ломает голову, признаются нерешаемыми). Когда стареющий физик сходит с ума, его «научная» часть интеллекта продолжает пульсировать и выдавать гениальные результаты — Степновой великолепно удалось показать парадокс угасающего сверхразума (даже самые поздние работы Линдта удостаиваются восторженных рецензий).
Интересной попыткой приблизиться к тайнам научного мышления стали «Сны Эйнштейна» Алана Лайтмана. Весь текст состоит из череды сновидений, раскрывающих разные типы времени: для кого-то оно движется по кругу, а для кого-то замирает в одной кульминационной точке, связанной с самым дорогим и ценным. Миров много, в каждом время может быть своим — зависит от того, кто и как его проживает.
Наряду с загадками ума волнуют литераторов и вопросы этики, доказательством чему служит написанный в 2013 году роман Ханьи Янагихары «Люди среди деревьев». Доктор, изучающий популяцию людей на отдаленном острове Иву-Иву, пытается разгадать секрет долголетия аборигенов и едва не губит всю экосистему, спровоцировав истребление редких черепах, которыми аборигены питаются. Ученый увозит с разоренного острова детей и усыновляет их, но потом его обвиняют в растлении — этическая грань романа, как мы видим, максимально злободневна и вписана в современный контекст. Янагихара лишний раз напоминает: наука и общество не живут порознь, укрыться в башне из слоновой кости уже не получится, все мы одинаково уязвимы.
Это «очеловечивание» ученых — некогда казавшихся волшебниками, непостижимыми и недосягаемыми, как боги или герои, на которых порой не распространялись наши земные законы и этические нормы, — становится важной тенденцией. Человеческое в образе исследователя выходит на первый план, вопрос о цене того или иного научного открытия звучит все настойчивее, и, кажется, именно об этом размышляют современные писатели, когда берутся говорить о мире науки.
Фотография: pexels.com






